Карнация Ремнева
Статья Евгения Штейнера
Вступительная статья буклета выставки, январь 2018 г.
Выставка "Стрелка"
«Андрей Ремнев» — почти тотальная рифма к «Андрей Рублев». Это не попытка вознести или пошутить. Такая ассоциация возникла у меня, когда я задумался о карнации Ремнева: он редкий современный художник, у коего она есть. Своя и стилеобразующая – как у Рублева была его особая темная карнация, чаще называемая применительно к иконописи личным письмом.
Карнация – это манера писать лица и руки и вообще плоть, составляя краски так, что они задают тональность колориту, объединяя картину в теплой или холодной гамме, в глубоких и бархатистых или непроницаемо- фарфоровых тонах. Она связана с искусством лессировок, но это больше, чем лессировки – впрочем, и ими мало кто нынче себя утружает, а Ремнев умеет и любит. Своя карнация – это когда личнóе письмо становится личным и выдает руку мастера еще до того, как увидишь подпись или сюжет и композицию. Карнация в лицах Ремнева своим сочетанием холодноватого розового цвета зари полунощных стран и оливково-зеленоватого, как у Чимабуэ или Дуччо, навевает ощущение бесплотной чистоты, как то было у художников дученто или треченто. В этом отношении Ремнев предстает прерафаэлитом – и прерафаэлитом значительно более дорафаэлевским, нежели Росетти и его круг с их чувственными образами, намного превзошедшими в телесности нелюбимую ими Форнарину, толстоватую рафаэлеву булочницу.
Фигуры Ремнева с их неподвижностью или замедленной манекенно-статуарной пластичностью существуют в особом статичном пространстве, где время остановлено, а атмосфера ясна и прозрачна до безвоздушности. Его тела вызывают ассоциации с героями Пьеро делла Франческа, молчаливо и недвижно участвующими в некоем сакральном миракле, – вспомните хотя бы фигуры Пьеро в «Бичевании» или «Вознесении». Этот неторопливый ритм жизни в картинах Ремнева можно описывать словами из старого словаря по искусству: предстояние или sacra conversazione (священное собеседование). Таков его не раз повторяющийся мотив встречи.
В одноименной картине 2016 года обнимающиеся женщины, иератически прямые и сдержанные, навевают воспоминание о беседе Марии и Елизаветы. Здесь эта встреча происходит на фоне широкой спокойной реки – вероятно, Волги, по берегам которой стоят русские избы и шатровые колокольни. Вода и небо, а главное – платье молодой женщины справа полны розовато-кремовых валёров, напоминающих топленое молоко и отблески зари одновременно. Возможно, правая (т.е. пришедшая с востока) фигура и есть заря Аврора и в то же время Мария. Возможно, ее встречают и величают не только Елизавета с антуражем, но и синие крылатые существа на златотканых их платьях: лев, телец, орел и ангел – символы евангелистов, а также белый единорог, кажется, спрыгивающий навстречу девственнице.
Карнация – это манера писать лица и руки и вообще плоть, составляя краски так, что они задают тональность колориту, объединяя картину в теплой или холодной гамме, в глубоких и бархатистых или непроницаемо- фарфоровых тонах. Она связана с искусством лессировок, но это больше, чем лессировки – впрочем, и ими мало кто нынче себя утружает, а Ремнев умеет и любит. Своя карнация – это когда личнóе письмо становится личным и выдает руку мастера еще до того, как увидишь подпись или сюжет и композицию. Карнация в лицах Ремнева своим сочетанием холодноватого розового цвета зари полунощных стран и оливково-зеленоватого, как у Чимабуэ или Дуччо, навевает ощущение бесплотной чистоты, как то было у художников дученто или треченто. В этом отношении Ремнев предстает прерафаэлитом – и прерафаэлитом значительно более дорафаэлевским, нежели Росетти и его круг с их чувственными образами, намного превзошедшими в телесности нелюбимую ими Форнарину, толстоватую рафаэлеву булочницу.
Фигуры Ремнева с их неподвижностью или замедленной манекенно-статуарной пластичностью существуют в особом статичном пространстве, где время остановлено, а атмосфера ясна и прозрачна до безвоздушности. Его тела вызывают ассоциации с героями Пьеро делла Франческа, молчаливо и недвижно участвующими в некоем сакральном миракле, – вспомните хотя бы фигуры Пьеро в «Бичевании» или «Вознесении». Этот неторопливый ритм жизни в картинах Ремнева можно описывать словами из старого словаря по искусству: предстояние или sacra conversazione (священное собеседование). Таков его не раз повторяющийся мотив встречи.
В одноименной картине 2016 года обнимающиеся женщины, иератически прямые и сдержанные, навевают воспоминание о беседе Марии и Елизаветы. Здесь эта встреча происходит на фоне широкой спокойной реки – вероятно, Волги, по берегам которой стоят русские избы и шатровые колокольни. Вода и небо, а главное – платье молодой женщины справа полны розовато-кремовых валёров, напоминающих топленое молоко и отблески зари одновременно. Возможно, правая (т.е. пришедшая с востока) фигура и есть заря Аврора и в то же время Мария. Возможно, ее встречают и величают не только Елизавета с антуражем, но и синие крылатые существа на златотканых их платьях: лев, телец, орел и ангел – символы евангелистов, а также белый единорог, кажется, спрыгивающий навстречу девственнице.
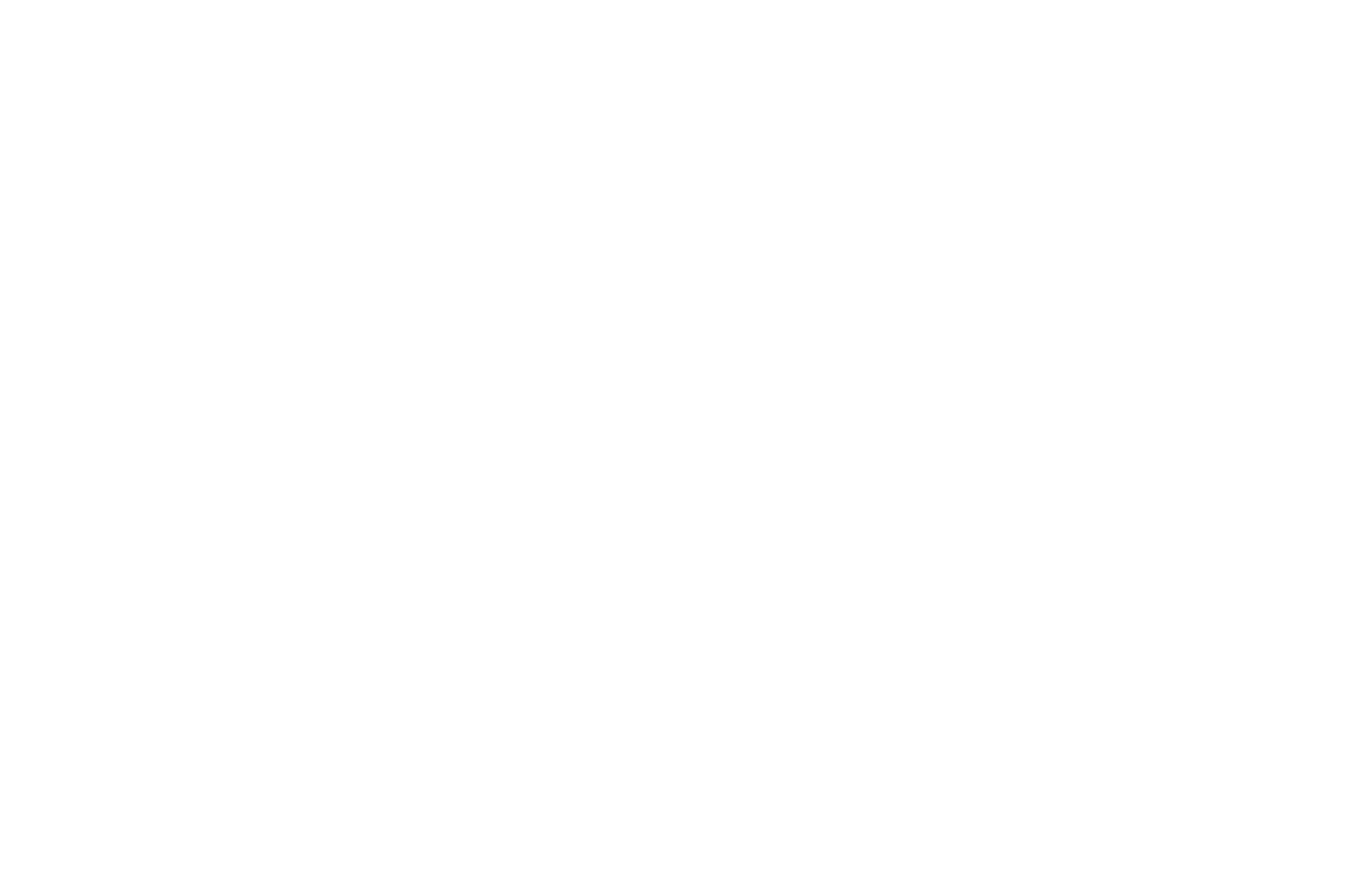
Тела у Ремнева сглажены и лишены чувственных курватур. Они словно закованы в злато- или серебрянотканые тяжелые платья, как в защитную оболочку – см., например, Tertia Vigilia («Третья стража»). Неприступная дама с негнущейся в жестком воротнике шеей словно обходит дозором свои владенья в компании с петухом, готовящимся возвестить наступление рассвета. В этой и многих других картинах отчетливо заметна одна из главных составляющих индивидуального стиля Ремнева: филигранная выписанность фактуры тканей и металлических нитей. Такие лессировки с обилием световых рефлексов ныне весьма нечасты и являются одной из сильных сторон художника
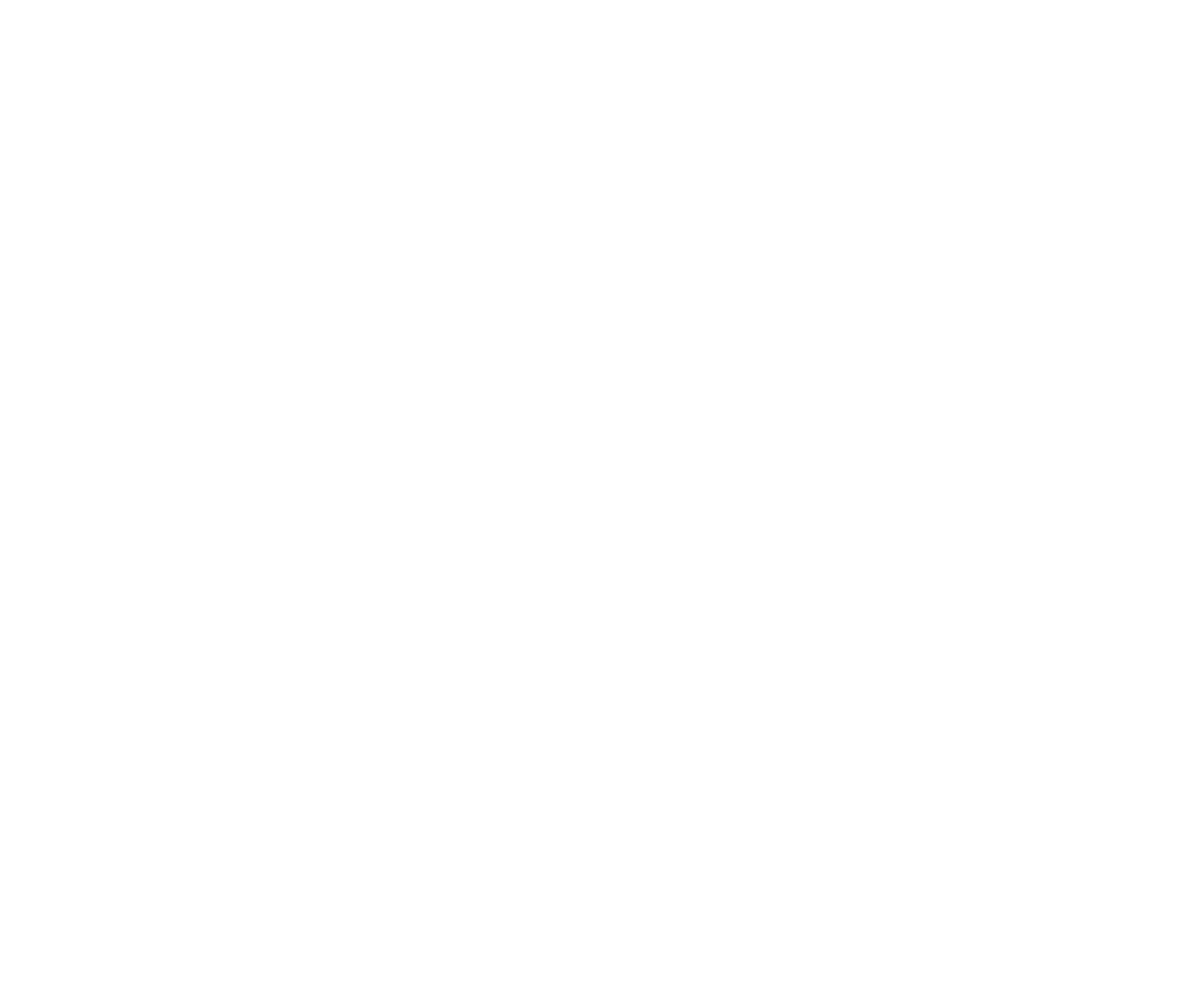
Уплощенным и эмалево-гладким телам Ремнев противопоставляет богатые барочные складки их одеяний. При этом он организует их не пышно-театрально, а скорее симметрично и застыло, на геральдический манер; см., например, зеркально отражающие друг друга складки на подоле крестьянской девушки в картине «Стружки»— они вполне могли бы служить фоном пышного герба или трона. Кстати, эта девушка необычайно высока: голова ее составляет одну восьмую тела. Таковы и многие другие персонажи Ремнева, которые вкупе с их величавой неторопливостью воплощают неких вневременных героев, которые больше, чем жизнь. В чем героизм этой девушки, которая только что стряхнула кудрявые стружки с подола? Может быть, это метафора остриженных волос Самсона? Женщина с такой загадочной улыбкой и уклончивым взглядом в сторону вполне может оказаться Далилой Мценского уезда.
Нередко при взгляде на рассеянные и отсутствующие взоры женских, в том числе совсем юных, девичьих моделей Ремнева ощущается тонкий аромат несовпадения его образов с кристальной ясностью и безмятежностью раннеренессансных портретов. Иногда чувствуется общая тональность с Беато Анджелико, но это тональность с синкопическим смещением – как и положенно художнику постмодерна, знакомому с героинями Набокова и Бальтюса.
Нередко при взгляде на рассеянные и отсутствующие взоры женских, в том числе совсем юных, девичьих моделей Ремнева ощущается тонкий аромат несовпадения его образов с кристальной ясностью и безмятежностью раннеренессансных портретов. Иногда чувствуется общая тональность с Беато Анджелико, но это тональность с синкопическим смещением – как и положенно художнику постмодерна, знакомому с героинями Набокова и Бальтюса.
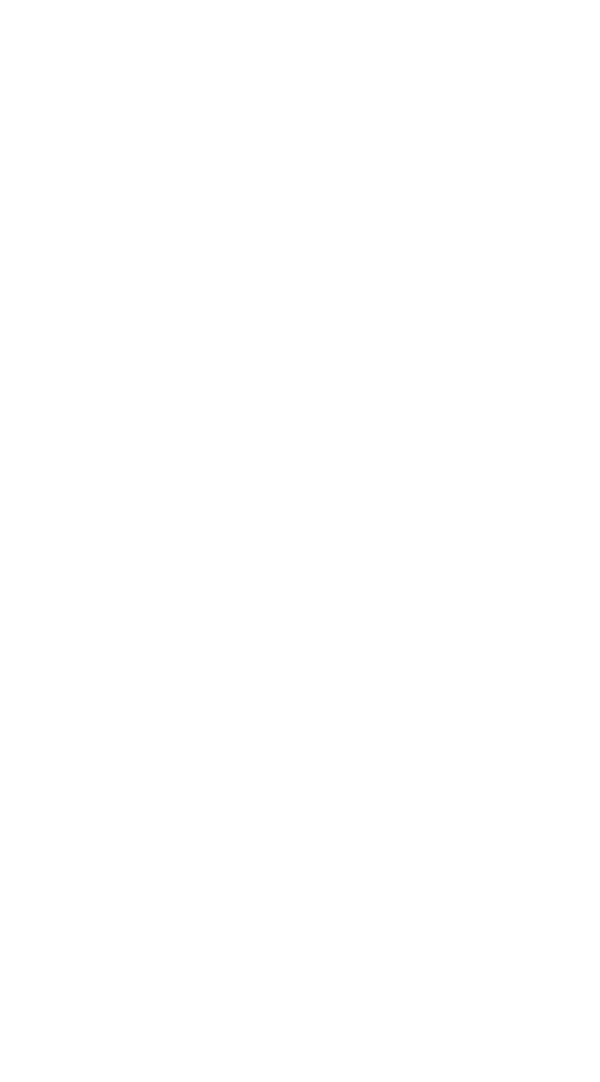
Девичьи лица, подчас неотличимые от масок, напоминают старинные эмали в своем холодноватом совершенстве и вызывают в памяти «Эмали и камеи» Теофиля Готье в переводе Гумилева:
Легли на бархат тёмно-синий
При бледно-матовых лучах
Изящество точёных линий
И пальцы тонкие в перстнях.
О манерной пассеистичности акмеистов вспоминаешь и когда смотришь на проницательный взгляд из-под карнавальной маски в картине «Навигатор». С нею перекликаются строки Готье о Венеции:
Соборы средь морских безлюдий
В теченьи музыкальных фраз
Поднялись, как девичьи груди,
Когда волнует их экстаз.
Легли на бархат тёмно-синий
При бледно-матовых лучах
Изящество точёных линий
И пальцы тонкие в перстнях.
О манерной пассеистичности акмеистов вспоминаешь и когда смотришь на проницательный взгляд из-под карнавальной маски в картине «Навигатор». С нею перекликаются строки Готье о Венеции:
Соборы средь морских безлюдий
В теченьи музыкальных фраз
Поднялись, как девичьи груди,
Когда волнует их экстаз.
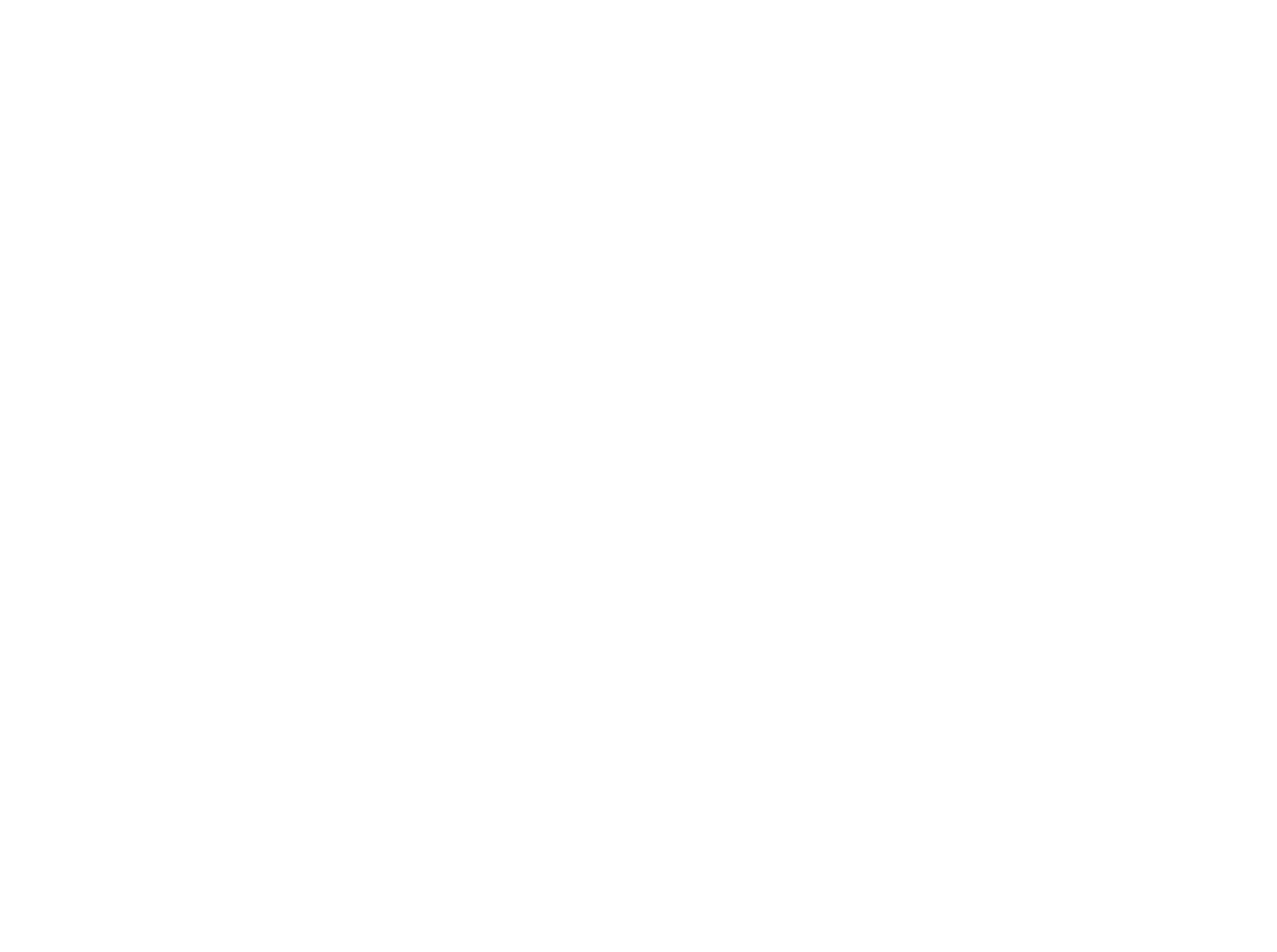
О Венеции напоминает и «Высокая вода» — изображение спящей девушки, моделью для которого послужила старшая дочь художника. Необычная – для изображения спящего человека – вертикальная композиция, усиленная чередой волнистых линий, интересна тем, что ее можно разглядывать и сверху, и снизу: или от лица спящей, следуя полету ласточи и волнистым струям вниз, или снизу — следуя тем же струям и поднимаясь вместе с ласточками по подушкам, как по ступенькам, вверх, к безмятежному покою умиротворенного лица. Картина вызывает множество культурных ассоциаций – начиная с Климта, с его вертикальным форматом и буйством золота (но здесь буйства вовсе нет), продолжая японскими мотивами ирисов, поданными через декоративную стилистику модерна. Придется к месту и тот же Готье с его
И устрица для белой шеи
Дала им жемчуга свои,
Но там блестят ещё светлее
Воды стекающей струи,
и, конечно, Мандельштам с его ласточками – их стигийской нежностью и ночной песнью, которая поется в сонном беспамятстве.
И устрица для белой шеи
Дала им жемчуга свои,
Но там блестят ещё светлее
Воды стекающей струи,
и, конечно, Мандельштам с его ласточками – их стигийской нежностью и ночной песнью, которая поется в сонном беспамятстве.
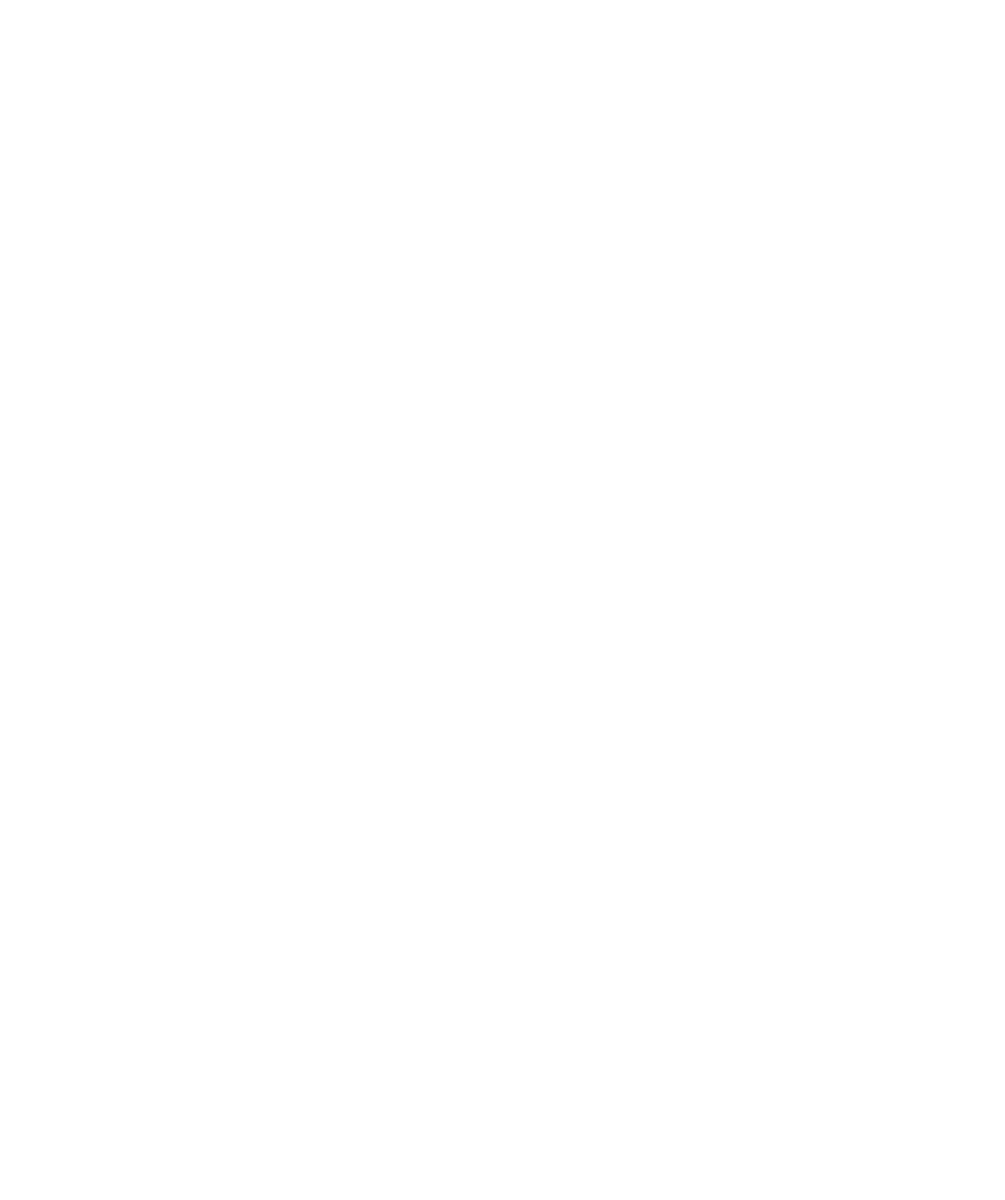
Заговорив о японском искусстве, стоит упомянуть интересную особенность: у Ремнева есть не только излюбленные мотивы вроде ирисов, рыб или стрекоз, но и — что более интересно – похожий на классическую японскую гравюру способ подачи. Это фронтальные изображения, которые не подчиняются складкам одежды, на которой они вышиты или нарисованы, и ракурсам (кроме «Высокой воды» см., например, «Сиесту» или «Среду обитания»).
В целом можно сказать, что множество культурных отсылок — тут и Венеция, и Делфт, и провинциальные русские города, и японские, через ар нуво преломленные, мотивы – служит приправой к собственному художественному стилю Андрея Ремнева, который легко узнается. И в основе его лежат не отсылки к искусству прошлого, а собственное, годами выработанное мастерство. В нем слились и маэстрия точных лессировок, и просторная немногословность композиций, и величавое спокойствие персонажей, и незаметные сразу, но говорящие детали второго плана...
Выбранный Ремневым путь в искусстве – это путь эскаписта: пассеиста и стилизатора. Его язык и техника сознательно черпают свою поэтику в прошлом, но говорят о вечном – а потому современном.
В целом можно сказать, что множество культурных отсылок — тут и Венеция, и Делфт, и провинциальные русские города, и японские, через ар нуво преломленные, мотивы – служит приправой к собственному художественному стилю Андрея Ремнева, который легко узнается. И в основе его лежат не отсылки к искусству прошлого, а собственное, годами выработанное мастерство. В нем слились и маэстрия точных лессировок, и просторная немногословность композиций, и величавое спокойствие персонажей, и незаметные сразу, но говорящие детали второго плана...
Выбранный Ремневым путь в искусстве – это путь эскаписта: пассеиста и стилизатора. Его язык и техника сознательно черпают свою поэтику в прошлом, но говорят о вечном – а потому современном.

Евгений Штейнер
доктор искусствоведения, член АИС,
профессор Высшей школы экономики,
профессор-исследователь
Центра по изучению Японии,
SOAS (London)
доктор искусствоведения, член АИС,
профессор Высшей школы экономики,
профессор-исследователь
Центра по изучению Японии,
SOAS (London)

